Friends
Emmanuel Carrère, «Kolkhoze»

Роман «Колхоз» везде подаётся как «книга о матери писателя». Действительно, формально — это биография его мамы, начиная с её дедов, и вплоть до похорон с речью Президента Республики. Несомненно, великая женщина, я о ней много слышал. Но книга Каррера не столько о ней, сколько о нём самом. Как его же «Лимонов» — это не только книга про Эдичку, это книга о том, как писатель изменялся в процессе копания информации для этой книги. Ну или «HHhH» Бине — ещё одна «книга о том, как автор писал эту книгу». Удивительно, но мне нравится такой формат!
При этом забавно, что это не первая книга Эммануэля о своей семье. И мама при этом тоже регулярно писала книги, так или иначе связанные с их историей. И они в своих книгах упоминают книги друг друга. Описывают, кто как на что отреагировал, кто что сказал после какой публикации. Должно быть очень интересно жить в такой семье :-)
Тем не менее, помимо личности писателя, там о том, как его предки по маминой линии уехали из Советской России после Октябрьской революции, как они жили во Франции. Там была русская линия (храм на rue Daru, вот это вот всё) и грузинская линия (с удивлением узнал, что предыдущая президент Грузии — это двоюродная сестра Элен, её историю Эммануэль тоже рассказывает в книге). Как постепенно Элен стала специалистом по Советской России, и как отторжение советской власти, выгнавшей её предков с Родины, уживалось в неё с любовью к стране. И как эта любовь ещё более удивительным образом трансформировалась в если не одобрение, то как минимум попустительство к нынешнему режиму. Ну да, конкретно сейчас они творят откровенный беспредел. Но это же Великая Россия™, у них сложная судьба, их можно понять и простить! И что это не только его мама, так думает половина французов её поколения. Сам Каррер при этом чётко говорит: «La Russie voulait être la Troisième Rome, elle est devenue le Quatrième Reich» (Россия хотела быть третьим Римом, а стала четвёртым Рейхом).
Собственно, вот это самое интересное — рассуждения автора об истории России, о современной России, об отношении современной Франции (в первую очередь, конечно, речь об интеллектуалах, о правительстве) к современной России. Но при этом это не научный труд, это как разговор с умным человеком. Точнее даже, как будто посидел за столом с умным человеком, послушал его рассказ. В данном случае ещё и рассказ на интересную тебе тему, да ещё и с точкой зрения очень близкой тебе. Я несколько раз ловил себя на мысли, насколько близки мне какие-то его высказывания, его истории. И думал, что такую книгу, конечно, можно написать только после того, как умерли все главные действующие лица — она слишком личная, и ты хочешь-не хочешь, а заденешь кого-нибудь. Особенно, если ты изначально не старался написать панегирик любимой маме, а пытался сформулировать то, что реально думаешь по её поводу.
( Read more... )
2026/01/20_1 - доступ к устройствам Bluetooth прямо со страницы браузера
=============== cut ===============
=============== /cut ===============
Современный браузер (а заодно WebView для создания мобильных приложений) всё ближе к людям. Они умеют уже почти все внутренние датчики, NFC, USB/Serial а теперь умеют еще работать с Bluetooth-устройствами. Честно говоря, я вообще никогда раньше с Bluetooth не работал, не считая юзерского подключения наушников. Но случайно заинтересовался темой и оказалось, что приложения для работы с Bluetooth теперь может делать простая страница, и это совсем просто. Например — вот эта, которую вы читаете. Работает это, как минимум, на Андроиде в штатном Chrome прямо из коробки, а также в Crome десктопном под Линукс, если включить настройки, которые по умолчанию в десктопном зачем-то выключены. Сильно не уверен насчет возможности страницы отсканировать всё пространство и найти все устройства, но если задать конкретный UUID своего собственного девайса, то его можно найти и соединиться. Я соорудил за вечер простейший тестик для ESP32: github.com/lleokaganov/bluetooth_web_esp32_test — кому интересно, можете глянуть код или взять уже готовый firmwаre.bin, залить в любую ESP32, и он будет каждые 10 сек заливать на эту страницу пример текстового файла на 20кб. Это просто пример. На выходных я собираюсь добавить нормальное шифрование (так-то протокол bluetooth сам не шифруется и доступен всем радиосканерам в округе) и вкомпилить как опцию в свой фреймворк. А локальный веб-сервер для ESP32 думаю вообще теперь убрать нафиг. Ну потому что нафига это нужно архитектурно? Для доступа к чипу из любой точки мира есть сайт, с которым он держит канал по вебсокету, и там все вебстраницы, обмен только данными. А если чип еще не подключен к местному WiFi и его надо поднять и прописать в систему — тут удобнее Bluetooth, он сразу видит чип, без унизительных плясок с его WiFi-подключением к местной сети. Считаю, что поднимать на чипе свой локальный веб-сервер — устаревшая технология, и я теперь не понимаю, зачем она нужна, только место зря занимает в коде. Но немаловажный вопрос к вам: я тут вставил наверху этого поста диагностику, и если вдруг у вас Windows или MAC и страница пишет, что для вас тоже доступен bluetooth в браузере — сообщите мне эту радостную новость. Потому что по моим сведениям (проверял на Айфоне и Виндоус жены) технология пока доступна только для Chrome Андроида и Chrome Linux.
Pompidou-Metz: Copistes — Part IV
( Read more... )
2026/01/18 - Мыши, как мы вас понимаем. Вы там держитесь. Три месяца - это пустяки.
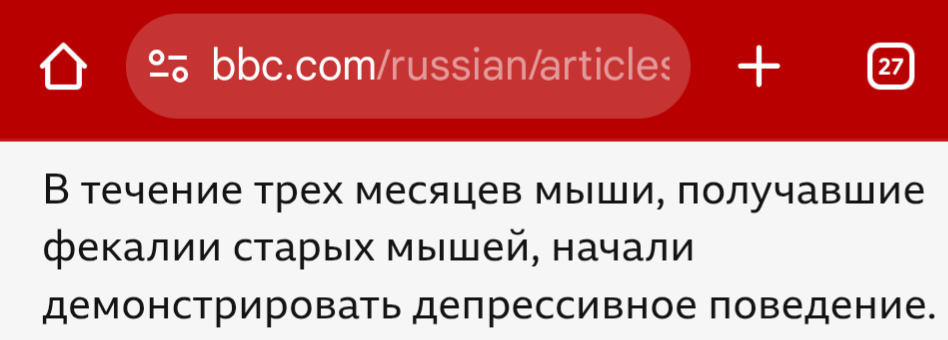
Pompidou-Metz: Copistes - Part III
( Read more... )
2026/01/16 - Ехал Трамп куда-то вдаль, на груди была медаль: «За отвагу», «За победу», «За приятную беседу»...
 Господи, какая красота! Передайте пожалуйста Дональду Трампу, что я тоже хочу вручить ему свою медаль! Человек я маленький, медаль у меня всего одна — «Медаль имени Чехова». Заслужил я ее не столько литературой, сколько лукавством и шантажом. Эти медальки предлагал когда-то всем подряд Союз Гриценко за ощутимый денежный взнос в кассу. Я запасся попкорном и ответил им на письмо, что я топ-блогер, уже известил читателей о присуждении мне медали, но денег нет, будет неловко теперь писать второй пост — о том, как нынче даже медальку не получить без бабла... Оргкомитет крепко задумался и в виде исключения выдал мне медаль Чехова бесплатно. Считаю, что именно такую медаль Трамп заслуживает гораздо больше, чем я, готов передать! Также имеется памятный значок «Заслуженный поэт Мордовской АССР», но его я совсем не заслужил, его мне подарил Гарик Черский, нашел где-то. А Трамп заслужил. Готов заодно и его передать.
Господи, какая красота! Передайте пожалуйста Дональду Трампу, что я тоже хочу вручить ему свою медаль! Человек я маленький, медаль у меня всего одна — «Медаль имени Чехова». Заслужил я ее не столько литературой, сколько лукавством и шантажом. Эти медальки предлагал когда-то всем подряд Союз Гриценко за ощутимый денежный взнос в кассу. Я запасся попкорном и ответил им на письмо, что я топ-блогер, уже известил читателей о присуждении мне медали, но денег нет, будет неловко теперь писать второй пост — о том, как нынче даже медальку не получить без бабла... Оргкомитет крепко задумался и в виде исключения выдал мне медаль Чехова бесплатно. Считаю, что именно такую медаль Трамп заслуживает гораздо больше, чем я, готов передать! Также имеется памятный значок «Заслуженный поэт Мордовской АССР», но его я совсем не заслужил, его мне подарил Гарик Черский, нашел где-то. А Трамп заслужил. Готов заодно и его передать.
 Если у вас тоже есть какие-то медальки, награды или вымпелы — не жадничайте, передавайте всё Трампу, шлите фотки в комменты. Вам без разницы, а старый чванливый индюк будет на седьмом небе от гордости, он на полном серьёзе всё это хавает. Я не знаю, чем народ США заслужил такое лютое позорище на весь мир, но наверняка заслужил. Может, это за Хиросиму наконец прилетело. И давайте ещё в казаки Трампа примем. Нобелевскую по гольфу — и в казаки.
Если у вас тоже есть какие-то медальки, награды или вымпелы — не жадничайте, передавайте всё Трампу, шлите фотки в комменты. Вам без разницы, а старый чванливый индюк будет на седьмом небе от гордости, он на полном серьёзе всё это хавает. Я не знаю, чем народ США заслужил такое лютое позорище на весь мир, но наверняка заслужил. Может, это за Хиросиму наконец прилетело. И давайте ещё в казаки Трампа примем. Нобелевскую по гольфу — и в казаки. Ограбления французских музеев
1. 03-04/09/2025 — Musée national Adrien-Dubouché de Limoges, украли 2 подноса и вазу, ущерб оценивается в 6 миллионов евро
2. 15-16/09/2025 — Muséum national d’histoire naturelle à Paris, украли 6 килограмм золота из минералогического музея, порядка 1 миллиона евро
3. 05-06/10/2025 — Musée du Désert, украли сотню золотых крестов гугенотов
4. 12 и 14/10/2025 — Musée Jacques Chirac (это не музей имени Жака Ширака, что в Париже, это музея самого Жака Ширака), его успели ограбить дважды. В первый раз вынесли кассу (в этом музее меньше 100 посетителей в день, даже если они все платят наличными — что там может быть за касса?) и часы. Второй раз вынесли несколько часов на общую сумму больше 1 миллиона евро.
5. 19/10/2025 — Лувр (настолько популярная тема, что они даже отдельный таг для неё сделали), вынесли драгоценностей на 88 миллионов евро
6. 20/10/2025 — Musée de la Maison des Lumières Denis Diderot, украли золотые и серебряные монеты
Седьмой ограбленный музей я не смог найти. Возможно, дважды ограбленный музея Жака Ширака засчитали за два.
Пишут, что цель ограблений в последнее время — не картины или скульптуры, потому что их действительно крайне сложно перепродать. А банально золото или драгоценные камни. Отдельная категория — китайский фарфор, потому что в Китае продавать награбленное несколько проще (аналогично хорошо идут русские книги, но это существенно меньший рынок, мы о нём знаем только потому, что имена родные). Изменился и стиль. На смену «аккуратным» ограблениям в духе Арсена Люпена пришли грабители с огнестрельным оружием и бензопилой. Пишут про ограбления в Нидерландах при помощи взрывчатки — во Франции такого пока не было, пока везёт. По этому поводу забавный комментарий директора одного из ограбленных музеев: такое ощущение, что чем надёжнее мы делаем охранную систему, тем больше насилия требуется для её обхода. Что, конечно же, правда, но не отменяет общего снижения количества ограблений — просто остаются только самые жёсткие.
Ещё до ограбления Лувра Французское Министерство Культуры подготовило письмо всем музеям страны, предписывающее произвести инвентаризацию предметов в их коллекции, на которые могут позариться грабители. Письмо отправили только после ограбления Лувра — теперь это, конечно, выглядит как «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но реестр сделали, с ним теперь работают.
Очевидная реакция «на местах» — спрятать самое ценное в запасники. Как минимум, чтобы его не было видно. Опять же, доступ в запасники чуть сложнее — тупо больше дверей, грабителям нужно больше времени, а значит больше шансов, что успеет приехать полиция. Лично для меня это так себе решение. Цель музеев конечно же в том, чтобы сохранять доверенные им предметы. Но не надо забывать, для чего мы вообще решили их хранить. Не только для учёных и историков, но и для нас, обычных посетителей. И если в залах музея заменить какие-то драгоценности на рисунки или копии — я только за! — то зачем вообще хранить в запасниках оригиналы? Изучили, описали — продали. На вырученные деньги купили следующий экспонат для копирования и изучения. Но шарм «настоящего» силён, вряд ли моя точка зрения победит.
2026/01/15 - 28 лет это вечность, как думаете?
Pompidou-Metz: Copistes — Part II
( Read more... )
2026/01/14 - «Факап» Харитонова
=============== cut ===============
Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии — чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь — «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристает с нравоучениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.
=============== /cut ===============
Стругацким можно рисовать неприятных и какающих апостолов святого Евангелия, а Харитонову нельзя мазать дерьмом святых героев Полудня? Почему? Потому что Стругацкие работали над другой задачей, пытались показать в подробностях грязь и несовершенство мира, в котором трудно, очень трудно Иисусу быть богом и воплотить свои божественные идеи? Но нам же могут возразить, что ровно то же самое делает и Харитонов, пытаясь показать, что Мир Полудня утопает в грязи и интригах, а коммунистическая идея в нем не работает? Разумеется, я сам на стороне Нестерова и всех тех, кто обожает Стругацких и кому читать «Факап» оказалось неприятно. Но вдумаемся: по сути-то, в чем разница? И здесь мы возвращаемся к удивительному феномену — кармической ответке писателю от судьба. Ведь помимо ложных сетевых баек в стиле «Дэйл Карнеги повесился от одиночества», существует поистине огромное количество реальных историй. Навскидку: — Аллен Карр, автор книги «Легкий способ бросить курить» умер от рака легких. — Жан-Жак Руссо, автор трактатов о правильном воспитании детей, всех пятерых своих детей сдал в приют. — Карл Маркс, главный обличитель эксплуататоров, капиталистов и буржуев, жил всю жизнь за счет своего друга Энгельса, преуспевающего текстильного фабриканта. — Джордж Оруэлл, главный обличитель тоталитаризма и доносительства, на склоне лет составил «список неблагонадежных граждан», и по его ложному доносу, будто Чарли Чаплин связан с коммунистами, великого режиссера репрессировали и выгнали из США, оставив без родины и киностудии. -- Гуманисты, проповедники морали и борцы с насилием Бертран Рассел и Норман Мейлер в жизни были домашними тиранами, издевались над детьми, бросались с ножом на жен. Уильям Берроуз вообще застрелил жену, но это уже другая история... В общем, Стругацким в этом смысле повезло больше. Центральной темой их миров была идея Учителя, который воспитывает поколение Новых людей, высокоморальных и совершенных. Надо ли удивляться, что ироничная судьба именно их наградила такими персональными учениками и почитателями книг, которые максимально далеки от их идеалов, от уважения к их творчеству, а порой и вообще от базовых норм европейской и христианской морали? Тут речь не о Харитонове, разумеется. А какие вы помните примеры, когда идеалы, которые писатель проповедовал в своих книгах, вступали, будто назло, в полное противоречие с его жизнью и биографией?
Идеальная платформа для блога? RSS!
Начну издалека: что для меня блог, зачем он вообще нужен? Я уехал из России в 2000 году, отъезд был достаточно внезапным, все друзья остались «там», и с ними очень хотелось поддерживать контакт. Сначала мы с
В какой-то момент появились форумы, это было просто прекрасно: я мог писать то, что мне интересно — и кому это было интересно, мог читать и комментировать. И наоборот, я мог читать то, что написали интересные мне люди. Ну а в 2002 году появился ЖЖ, и это было просто откровение, потому что для ведения блога можно было не заморачиваться со своим сайтом или своим форумом: ты приходишь на готовую платформу, пишешь — и кто хочет, тот подписывается на тебя и читает. А ты подписываешься на тех, кто интересен тебе.
Проблема с этим подходом сейчас достаточно очевидна: это работает только в условиях единой системы, где «есть все». Собственно, поэтому, как мне кажется, так и не взлетели личные блоги — адреса сайтов каких-то реально выдающихся личностей ты ещё мог запомнить / занести в закладки. Но проверять каждый день 50 разных сайтов ты, конечно, не будешь. Как следствие — массовое переселение из ЖЖ в ФБ. Появилась новая платформа с удобным интерфейсом, туда переползла какая-то приличная часть аудитории, и если ты не переедешь за ней, то контакт с ней очень быстро потеряется.
Примерно в это же время я познакомился с RSS. Что это такое? Это формат, при помощи которого каждый блог может выдавать в стандартном виде информацию о своих новых постах. ЖЖ реализовал RSS — достаточно написать приписать к адресу своего блога /data/rss (в DW это тоже работает), чтобы получить тот самый файл в том самом стандартном формате с описанием последних постов. И появились программы, которые могли подписываться на RSS из разных источников и сводить их в одну ленту.
Что это обозначает на практике? На практике это обозначает, что у меня есть лента, в которой есть журналы ЖЖ, журналы DW, журналы на каких-то других платформах. То есть, мне всё равно, где именно пишет / публикует свои записи интересный мне человек: если его платформа поддерживает RSS — я могу добавить его в свою ленту. Лео Каганов завёл блог на своём личном сайте? Вот его RSS, захочу — подпишусь. Хочу добавить в ленту Le Monde? Вот список их RSS. Мне интересны публикации MathWorks? Ну, вы уже поняли.
Очевидно, что сам концепт распределённой системы идёт вразрез с бизнес-моделью ФБ и подобных им компаний. У них как раз обратная цель: затянуть к себе как можно больше пользователей и не выпускать от себя ни их самих, ни их публикации. Понятно, что им нужно, чтобы я проводил как можно больше времени, читая их рекламу — но у меня на моё личное время были другие планы. Тем не менее, факт остаётся фактом: ФБ RSS не поддерживает и, как мне кажется, никогда не будет поддерживать. Поэтому да, я в свою ленту не могу добавлять людей из ФБ. Равно как и они не могут внутри ФБ читать ничего другого, кроме как других ФБ пользователей (и рекламы). Платформы типа Телеграма не настолько стремятся к монополии за наше время. Телеграм RSS не поддерживает, но поддерживает какой-то другой вариант доступа к нашим постам там — я видел (пробовал, оно работает) вариант подписки на Телеграм через RSS.
То есть, возвращаясь к вопросу об идеальной платформе для блога. Если принять мысль, что я могу читать журналы не только тех людей, которые пишут на той же платформе, что и я, то вопрос теряет смысл. Какая мне разница, на какой платформе будет писать тот же
Возвращаясь к насущным проблемам. Сейчас в очередной раз множество людей осознало, что оно не может / не хочет писать в ЖЖ. И считает, что переезд на DW или в любое другое место — это потеря и читателей, и содержания для своей ленты. Это несомненно так, если переезжать на ФБ — там вы попадаете в их монополию, прощайте, друзья! Но это не так, если вы переезжаете на платформу с RSS и сами при этом используете RSS.
Дальше инструкция для тех, кого я убедил.
1. Открываете учётку на https://feedly.com/ — наверняка есть множество других программ / сайтов с аналогичным или лучшим функционалом, я знаю этот.
2. Экспортируете из ЖЖ свою ленту в формате OPML.
3. Импортируете файл OPML в Feedly.
Всё.
Второстепенные, но тем не менее приятные фичи Feedly:
* Он помнит, что вы уже прочитали, а что нет. Более того, пост можно пометить как непрочитанный, чтобы прочитать его позже. Сложно переоценить эту фичу — совершенно непонятно, почему её нет в стандартных лентах (но есть в мейле)
* Можно сортировать в прямом хронологическом порядке (идёт в комплекте с предыдущим, потому что для этого нужно помнить, на чём вы остановились в прошлый раз)
* Показывает ленту кратко, только заголовками, затем каждый пост по-отдельности — примерно как мейлы, привычный интерфейс. Но для блога неожиданное следствие: мне становится неважным формат блога, я его увижу только если кликну на ссылку и перейду на сайт конкретного блога. А так всё показывается в моём формате (лично у меня минимализм: чёрные буквы по белому фону)
* Можно организовать ленту по папкам — тоже как в мейле, когда вы видите, что в папке «анекдоты» 18 непрочитанных, «работа» — 2, «друзья» — 13
* Есть приложение для телефона. Очень простое, только для чтения. Для комментирования — переход по ссылке на платформу каждого блога (у каждого надо регистрироваться, помнить пароли и т.д. — я все пароли записал в Chrome). Для написания в свой блог — см. сайт или приложение своей платформы (я всегда пишу в браузере)
Из ограничений:
* Я так и не смог разобраться, как добавлять в ленту protected посты, к которым я имею доступ. Забил, не так много людей пишет под замком. Тем более сейчас, когда нет уже такой толпы комментаторов на каждый пост
* Конкретно сейчас (пару недель как) перестала работать кнопка «Follow Sources», позволявшая добавить в ленту новый блог просто по ссылке на его RSS. Приходится делать OPML файл — но вы видели, насколько у него простой формат, можно осилить
* Кто-то может считать это ограничением, для меня наоборот плюс: разводятся два определения понятия «френд». Тот, кого я читаю — он у меня в ленте RSS, и об этом не знает никто, кроме меня. Во френды я добавляю того, кому я позволяю комментировать у меня со ссылками/ картинками без премодерации (не всех их я при этом хочу читать). То есть пропадает простой вариант увидеть, кого читает интересный мне человек, чтобы найти других интересных мне людей
Но самое главное: если даже Feedly совсем умрёт — перейду на другую программу. Я на Feedly пришёл, когда умерла предыдущая (Google Reader). Две кнопки: экспорт — импорт.
Fabrice Caro, «Le Discours»
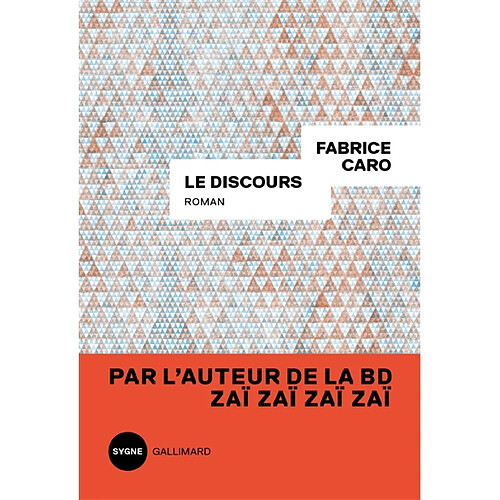 Полочка 021/120, книга Фабриса Каро «Le Discours». По этой книге я тоже видел фильм (писал о нём здесь, один из лучших для меня фильмов, есть на Disney+), видел неоднократно и наверняка буду ещё пересматривать. Книга оказалась похожей на фильм — точно так же натянута как струна, когда постоянно страшно за главного героя, что он или взорвётся или порвётся. Написана от его имени, единым монологом — ну, как и фильм, собственно. Длинные параграфы по нескольку страниц, непрерывный поток мысли. Наверное, если состояние героя не в тему — то это будет выглядеть ужасно занудно. Но если попадает в тему (мне однозначно попадает) — читается на одном дыхании. Увидел, что есть аудиокнига, начитал Alain Chabat — тоже один из моих любимых актёров.
Полочка 021/120, книга Фабриса Каро «Le Discours». По этой книге я тоже видел фильм (писал о нём здесь, один из лучших для меня фильмов, есть на Disney+), видел неоднократно и наверняка буду ещё пересматривать. Книга оказалась похожей на фильм — точно так же натянута как струна, когда постоянно страшно за главного героя, что он или взорвётся или порвётся. Написана от его имени, единым монологом — ну, как и фильм, собственно. Длинные параграфы по нескольку страниц, непрерывный поток мысли. Наверное, если состояние героя не в тему — то это будет выглядеть ужасно занудно. Но если попадает в тему (мне однозначно попадает) — читается на одном дыхании. Увидел, что есть аудиокнига, начитал Alain Chabat — тоже один из моих любимых актёров.Почитал про автора, он оказался известным автором комиксов Fabcaro. Тот, кто в частности написал сценарии новым приключениям Астерикса и Обеликса. Надо будет почитать — ту BD, которую упоминают на обложке, я уже заказал :-)
2026/01/13 - Дружественный Вечный огонь


 Шел давече ночью по улице Варварке в Москве и видел невероятной красоты иконостас посреди города почти у Кремля. Это вам не разгромленный Мост Немцова, это настоящий почти государственный алтарь погибших героев. Мемориал посвящен, как нетрудно видеть, ЧВК «Вагнер», главные места в нем среди флагов с черными черепами занимают вагнеровцы, но собраны здесь и все остальные знакомые имена, о которых мы прежде много лет читали в новостях: все полевые командиры, погибшие в боях, убитые в местных разборках, ликвидированные украинскими или российскими спецслужбами. Все это озаглавлено «Бессмертный полк», хотя это много-много разных полков, которые воевали в разных направлениях и иногда даже друг с другом, а всех их объединяет лишь ненависть к Украине. Здесь командиры батальонов типа Эспаньолы, убитые в боях на территории Украины. Рядом — Моторола, Гиви и Захарченко, погибшие от рук украинских спецслужб (впрочем, в Википедии есть версия, будто Захарченко погиб от рук российских спецслужб). Рядом — несчастный американец Рассел Бентли, который приехал идейно воевать за Донбасс и Россию еще в 2014, и в финале десяти лет военных заслуг был мучительно убит под пытками местными воинами бригады имени того же Захарченко, потому что раз американец, то наверно шпион. Ну и конечно тут сами Пригожин и Уткин — герои, которые воевали за Путина, потом устроили военный поход против Путина, потом им было даровано прощение от Путина, и следом как-то случайно в небе посреди России они были взорваны в своем самолете вместе с невинными пилотами и девочкой-стюардессой — все понимают, кем взорваны, но мемориал рядом с Кремлем стоит. В общем, если вдуматься, производит очень сильное впечатление этот памятник нашей противоречивой эпохи. Все эти герои шли в вечность настолько разными и даже разнонаправленными путями, что если в честь воинов ВОВ зажигают Вечный огонь, здесь правильнее зажечь Дружественный Вечный огонь.
Шел давече ночью по улице Варварке в Москве и видел невероятной красоты иконостас посреди города почти у Кремля. Это вам не разгромленный Мост Немцова, это настоящий почти государственный алтарь погибших героев. Мемориал посвящен, как нетрудно видеть, ЧВК «Вагнер», главные места в нем среди флагов с черными черепами занимают вагнеровцы, но собраны здесь и все остальные знакомые имена, о которых мы прежде много лет читали в новостях: все полевые командиры, погибшие в боях, убитые в местных разборках, ликвидированные украинскими или российскими спецслужбами. Все это озаглавлено «Бессмертный полк», хотя это много-много разных полков, которые воевали в разных направлениях и иногда даже друг с другом, а всех их объединяет лишь ненависть к Украине. Здесь командиры батальонов типа Эспаньолы, убитые в боях на территории Украины. Рядом — Моторола, Гиви и Захарченко, погибшие от рук украинских спецслужб (впрочем, в Википедии есть версия, будто Захарченко погиб от рук российских спецслужб). Рядом — несчастный американец Рассел Бентли, который приехал идейно воевать за Донбасс и Россию еще в 2014, и в финале десяти лет военных заслуг был мучительно убит под пытками местными воинами бригады имени того же Захарченко, потому что раз американец, то наверно шпион. Ну и конечно тут сами Пригожин и Уткин — герои, которые воевали за Путина, потом устроили военный поход против Путина, потом им было даровано прощение от Путина, и следом как-то случайно в небе посреди России они были взорваны в своем самолете вместе с невинными пилотами и девочкой-стюардессой — все понимают, кем взорваны, но мемориал рядом с Кремлем стоит. В общем, если вдуматься, производит очень сильное впечатление этот памятник нашей противоречивой эпохи. Все эти герои шли в вечность настолько разными и даже разнонаправленными путями, что если в честь воинов ВОВ зажигают Вечный огонь, здесь правильнее зажечь Дружественный Вечный огонь. На всякую хитрую жопу...
Спрашиваю ChatGPT, он выдаёт какой-то набор стандартных методов оживить иконки (спойлер: не сработало), и в процессе отмечает, что это стандартная проблема Windows 11, потому что там разрешено только какое-то ограниченное количество overlay-иконок (видимо, чтобы не тормозило), и достаточно большую долю из них зарезервировали сами Windows, в основном для нужд OneDrive. Собственно, предлагаемые решения часто сводились либо к тому, как уменьшить количество конкурирующих иконок, либо как сделать иконки SVN приоритетными.
Так вот, приоритет у иконок тупо по алфавиту. Тут сложно не вспомнить 1990-е, когда во Франции были ещё популярными «жёлтые страницы», и все сантехники / электрики либо платили за то, чтобы быть первыми в списке, либо выбирали себе названия типы «ABC Elecricité» (перед которым тут же встраивался ABAB, а перед ним AAA, ну и так далее).
Так что вы думаете? Открываем Registry на «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers». Лично у меня список из двух «нормальных» названий («EnhancedStorageShell» и «Offline Files»), одна хитрая жопа начинается с пробела (« QIPOverlay»), все остальные, включая SVN и OneDrive, начинаются с двух пробелов :-)
Pompidou-Metz: Copistes — Part I
Прямо на входе — Джеф Кунс, копия «Гермафродита», но с фирменными шариками Кунса (все работы 2025 года, год можно не указывать, всё делалось специально для этой выставки). Я уже видел его «Геракла» с шариком. В той серии были только синие шарики, в этой — разноцветные, и отдельный кайф наблюдать за игрой цвета в многочисленных отражениях. Как и с Гераклом, здесь несколько слоёв: «Гермафродит» из Лувра — это греческая копия II века до нашей эры с бронзовой статуи V века до нашей эры. Затем в XVII веке Бернини добавил матрас с подушкой. После чего в XXI веке Кунс добавил шарики. На всякий случай уточнив, что он сделал сначала «экземпляр художника», а потом снял с него три нумерованные копии — эта копия № 1. Что из всего этого можно считать оригиналом, а что голимой копией / новоделом? И почему? Только потому, что не белое-мраморное? При том, что мы знаем, что оригиналы как раз были раскрашенными.
К слову о шариках — я всегда считал, что это металл. Но нет, как минимум здесь это — стекло!
( Read more... )
Музей памяти в Меце
Как и сейчас, сразу же после аннексии оккупанты берутся за школьное образование. Афиша Гитерюгенда - аналог наших пионеров
2026/01/11 - Аналогий нет
Мец: Musée de la Cour d'Or
( Read more... )
Ivan Calbérac, «Venise n’est pas en Italie»
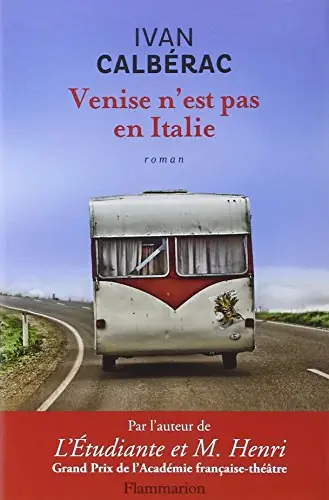 Полочка 020/120, книга Ivan Calbérac «Venise n’est pas en Italie». Я уже смотрел смотрел фильм по этой книге (есть на Netflix), там играет мой любимый Benoit Poelvoorde. Я не подозревал, что фильм по книге. А тут оказалось, что книга названа в честь песни — романтика 1970-х, я зачем-то послушал, теперь эта песня у меня из головы не лезет. Фильм я смотрел, понимая его название («Венеция находится не в Италии») как проявление какого-то местного венецианского снобизма. Мол, мы — не Италия, мы — отдельно. В песне чётко объясняется другой смысл: Венеция — это не город в Италии, это состояние твоей души, это там тогда и с тем, где когда и с кем тебе хорошо. Отличный тезис!
Полочка 020/120, книга Ivan Calbérac «Venise n’est pas en Italie». Я уже смотрел смотрел фильм по этой книге (есть на Netflix), там играет мой любимый Benoit Poelvoorde. Я не подозревал, что фильм по книге. А тут оказалось, что книга названа в честь песни — романтика 1970-х, я зачем-то послушал, теперь эта песня у меня из головы не лезет. Фильм я смотрел, понимая его название («Венеция находится не в Италии») как проявление какого-то местного венецианского снобизма. Мол, мы — не Италия, мы — отдельно. В песне чётко объясняется другой смысл: Венеция — это не город в Италии, это состояние твоей души, это там тогда и с тем, где когда и с кем тебе хорошо. Отличный тезис!Содержание книги практически невозможно заспойлить. Мальчик из бедной семьи влюбился в девочку из богатой. Та уезжает на каникулы в Венецию — у неё там концерт. А ещё у них там дом, приезжай в гости? Мальчик загорелся, но в доме внезапно не оказалось места, и тут, собственно, начинается сюжет книги. Очень милая романтическая книга про подростков. Наверное даже подразумевалось «для подростков», потому что вся книга написана как дневник главного героя. Но стилизация достаточно топорная — я не верю, что на нашей планете есть дети, которые так разговаривают. Так думают — да, но так формулируют — нет. Поначалу это жутко мешало, на каждой фразе хотелось поправить автора. Но потом привык, абстрагировался, обращал внимание только на смысл.
Собственно, основная тема это даже не подростковая любовь. Хотя, учитывая моё отношение к теме классового расслоения, я тут же отметил, что не могу поверить, чтобы с такой разницей старта у них могло бы что-то получиться. Вопрос, конечно же, не в деньгах, а в стиле жизни, в ценностях. В том, будет ли у них, о чём поговорить, когда они прекратят целоваться.
Но книга скорее об отношениях в семье, в основном о линии сын-отец. Главный герой книги — конечно же, сын, но мой герой — конечно же, папа (напоминаю, его играл Benoit Poelvoorde!). Это человек, который свыкся с мыслью, что он выглядит мудаком в глазах окружающих, и он даже не пытается это изменить — без мазы. Он просто пытается жить так, как ему нравится. Для него счастье остановиться на заправке на автотрассе и выпить кофе из автомата — и ему плевать, что все вокруг считают этот кофе говном. Примерно как я уже свыкся с реакцией друзей на то, что самый вкусный кофе для меня делает Starbucks — да, я пробовал этот ваш «нормальный» кофе, нет, спасибо, мне мой вкуснее. Я к вам не лезу — и вы мне, пожалуйста, тоже не объясняйте, в чём именно я не прав. Ну и безбашенность отца героя, способность встать и за один день переменить все планы, потому что так будет лучше для сына (ну как... это папе кажется, что так будет лучше для сына) — это тоже мой идеал.
Почитал биографию автора — зачёт! По первому образованию — математик. По второму — юрист. После чего начинает работать актёром в театре и писать сценарии для кино. Это его единственная книга (ещё участвовал в каком-то сборнике юмора), не верьте надписи на обложке «от автора „L’Étudiante et Monsieur Henri“» — это не книга, это его спектакль и фильм.
Мец: FRAC Lorraine
Так вот, назад едем уже через Мец. Меня высадили, и я пошёл в местный FRAC — решил таки собрать эту коллекцию музеев (пока что 4 из 22). Прихожу по указанному адресу — улица перегорожена, потому что один из домов реально обваливается. Но до нужного мне номера вроде как пройти можно. Только там ничего толком нет. Какое-то искусство есть, но выглядит это скорее арт-сквотом, чем музеем / региональным фондом современного искусства.
Немного расстроенный, я пошёл дальше. Отлично провёл остаток дня (ещё будет), замечательно погулял на следующий день (ох, ещё будет), а в последний день как-то вот задумался — ну нереально, чтобы это было и всё. Пошёл ещё раз на ту же улицу, но с другой стороны от обвала. И таки да! С другой стороны оказалась ещё одна калитка, где был настоящий FRAC! Надо всё-таки больше отдыхать, иначе голова перестаёт работать! (как живут люди в других странах, где нет 8-9 недель отпуска, я просто не понимаю...)
( Read more... )
